
Анилиновый взлёт
Проза / Читателей: 18Инфо
Глава первая
Первый раз я была у Дани в комнате, ещё в тот период, когда у него и сестры всё шло к свадьбе, сестре моей подарено золотое колечко и лежало заявление в ЗАГС е, но они ( скорее всего из-за сестры) поссорились, Галя собрала дорожную сумку и уехала в город Харьков, где они вместе учились в художественном училище.
Даня сначала учился там на скульптора, потом перевёлся на оформительское отделение, а теперь вернулся в Энск, он работает на заводе художником –оформителем, всё свободное от работы время занимается тем, что пинает в подвале их (потому, что дом строил не он, а его ещё живой дедушка –большой с просторным первым этажом и мансардой, дом облицованный белым силикатным кирпичом не его, точнее не только его) большого частного дома с большим подвальным помещением, куда может заехать машина, но не заезжает, потому, что есть гараж), пинает макиавару, о которой жалеет, что самодельная и грушу тоже самодельную - там на толстой стальной балке подвешен мешок с песком, который предполагается в любую свободную минуту беспощадно избивать кедами, а в хорошую погоду упражняется во дворе на турнике или импровизированной спортплощадке под навесом, как будто хочет стать профессиональным громилой, но в город не ходит, он говорит, что город может убить или покалечить, а он не хочет принести свою единственную и неповторимую жизнь в жертву нагромождению камней, железа проводов, но самое главное это то, о чём Даня молчит.
В доме есть винтовая лестница внутри, но есть остатки старой стальной лестницы снаружи, точнее от неё осталась только одна площадка и железная крыша над ней, там висит канат, (видимо тоже раздобытый дедушкой- пенсионером и школьным завхозом, когда сухая погода канат подвешивается на толстый стальной крюк и по нему Даня спускается из свой комнаты, карабкается в свою комнату, порой не помогая ногами, из за этого каната его прикосновения мозолистые и шершавые( их могло бы не быть, но мне нравится, когда мы ходим за ручку, как в детском садике, когда водили парами.
Он называет это «путь воина». Что по мне, так это потому, что ему маячит повестка и военкомат, и «путь советского воина».
Мой папа любит рассказывать моей маме, какая в армии дедовщина, я должна всё это слушать, потому, что в нашей двухкомнатной панели одна комната проходная и раньше жили все три сестры в одной и той же комнате с видом на улицу Гагарина, по которой всегда ездят машины, наша пятиэтажка стоит на государственной дороге, которая ведёт из Ростова на Дону сначала в город Орджонкидзе, а затем в город Баку, ( знаю это потому, что акселератка и не дура), а ещё потому, что когда ожидаю автобус девятку, чтобы ехать в школу в другой район, где мы жили раньше, читаю указатель, на другой стороне широкой улицы, он на хорошо виден на стороне будничного ожидания автобуса.
Даня ничего не скрывает от мамы и папы, у него с родителями дружественные, доверительные отношения, я не сразу не слышала от Гали, которая с отроческих лет вхожа в их дом, чтобы его родители ссорились или ругались.
Даня называет это семейными традициями и преемственностью поколений.
В мансарде их дома две большие комнаты, одна из этих комнат сплошь заставлена стеллажами с книгами, а другая, в которой обитает Даня - последний приют старых, но ещё пригодных для эксплуатации вещей :там стоит старинная железная двуспальная кровать, которая когда-то принадлежала его дедушке и бабушке по отцу, их же старый холодильник «ЗИЛ Москва» с никелированной ручкой и ярко алой табличкой на двери, а в дополнении ко всему на круглом столике там стоит тяжёлый миксер «Воронеж» с тумблерами поверх тяжёлой стальной станины и тремя железными стаканами, этим миксером редко пользуются, холодильник пуст и тоже всегда выключен, а вот старым ламповым магнитофоном Даня пользуется, когда занимается йогой на двух матах, точно таких, как в школе, сходство со школой усиливает ещё и шведская стенка.
Даня худой, жилистый, у него грустные чёрные глаза и густые ресницы, похож на актёра из индийского фильма, учит меня в гараже метать ножи в специально поставленную там для этих целей доску и вертеть в руках черенок для лопаты. А ещё мы крутим обручи во дворе, но крутить обруч его учила уже я, такие обручи как на физкультуре.
Я наблюдаю, как он, морщась, садится на шпагат, как прыгает вокруг мешка с песком, подвешенным в подвале на балку, молотит по нему кедами и боксерскими перчатками. Бедный мешок, ему достаётся за то, что в нашем городе трудно достать боксёрскую грушу.
У меня есть только один секрет( или антисекрет) никакой личной жизни, даже поцелуев. Я сама пытаюсь его спровоцировать, прижимаюсь к нему, когда он отвозит меня домой на мотоцикле, но он не сдаётся, он-твердь, он правильный, он как говорит Галя состоит из устоев.
Мне просто (не знаю почему, на правах старой знакомой, подруги, друга? ) сама не знаю почему я к нему вхожа(может быть по инерции, потому, что он «лазил» за моей Галюней когда они были совсем «скворцы», а я носила октябрятскую звёздочку. Ко мне все у него в семье так привыкли, что позволено приходить к нему, когда мне заблагорассудится, а мне «благорассудится» всё время, которое я могу ускользнуть из под родительского надзора, ибо Даньфос знает, ( но упорно делает вид, что знать об этом не хочет) о том, что я тащусь с него как моль с нафталина, знает, но вида не показывает и ведёт себя, куртуазно так, немного наиграно, я также знаю, что у него есть тёлка, которая учится в политехникуме, я видела их возле кинотеатра «Восток», где он её обычно маячит, но я пока терплю всё это, знаю, что когда моё время придёт, я её от него отошью, только я ещё такая, как он меня зовёт, «мелкая» в прямом и пока в возрастном смысле.
Даня учит меня ещё и английскому языку, потому, что мама у него «англичанка» в спецшколе и она разговаривала с ним по английски с момента его рождения и делает это сейчас. У них это естественное состояние, они не выделываются, они так живут, потому, что внутри семьи знания и опыт должны передаваться из поколения в поколение. Так их учит – дедушка завхоз из десятой школы. Так Даньфос будет учить своих детей(и я намерена сделать так, что если у него будут дети, то пусть они будут и моими тоже).
Когда я уже заканчивала восьмой класс, в школе была репетиция парада перед первым мая, я естественно удрала и пошла через частный сектор вдоль по Дачной вырулила на Учительскую прямо к их дому. Эти улицы между Бродом и Горняком, сплошь ухоженный, благополучный частный сектор. Во дворе Данин папа мыл из шланга «Москвич». На нём были болотные сапоги как у серовского «Охотника на привале».
-Если будешь их ждать, они с Микой уехали на мотоцикле, то поднимайся в его комнату и жди до победного. Мне надо ехать и я тебя пущу только при условии, что кто-то будет ждать до тех пор пока кто-то не явится. Или иди домой.
( По ехидному выражению струиловского папы(я не знаю почему он с детства у своих друзей Струил, а никакой не Даня, а ещё Даньфос как вариант)
-Я буду ждать, -сказала я,- буду ждать до победного.
-Хорошо, но если никто не явится, то жди меня. Я по делам, буду часа через три, не раньше. Но буду. Жди меня и я вернусь, только очень жди.
Я поняла кого мне напоминает Данин папа. Вот эти самые «охотники на привале», его папа напоминает того, который лежит на пригорке и ехидно так улыбается. Если убрать бородку и чуть укоротить усики по бокам, то будет один в один.
- Да я буду ждать, вы не беспокойтесь.
-Тогда закрой на засов ворота, запрись в доме изнутри и жди, - проинструктировал папа.
Я закрыла ворота, внутри которых была калитка, постоянно закрытая на ключ, подумала о том, какой приятный нежно зелёный цвет их окраски, прошла по тропинке до крыльца, налила на кухне воды в Данину любимую чашку, выпила и не спеша поднялась по винтовой лестнице на мансарду.
Я поднялась наверх, посмотрела с балкона на горы, га крыши пятиэтажек «Горной», уселась в кресло, прихватив перед этим со стеллажа наугад тяжёлый том большой советской энциклопедии и стала листать.
Это занятие вскоре наскучило, мотоцикл всё не появлялся, стала рассматривать Данины работы маслом, написанные ещё в те годы, когда он учился в училище.
Работы как работы, но одна из них, довольно большая меня заинтересовала. Картина маслом, в деревянной раме без багета. На картине была нарисована женщина, совершенно обнажённая, женщина стояла перед окном, отодвинув шторы, а в окне, до горизонта город, который с чисто логической точки зрения был Харьков.
В тот год я заканчивала «художку», знала куда буду поступать, работа показалась мне интересной по цвету, настроению и композиции, единственное, что меня смутило, что обнаженная женщина, хоть и была видна со спины, но со сто процентной уверенностью можно было сказать, что она написана с моей старшей сестры. Или по фотографии, сделанной с моей старшей сестры. Может нарисовано по фотографии, но разобрано по цвету, точно с натуры, очень так грамотно, лессировками, мазками гладкими, что у того Леонардо Да Винчи( видела работы прошлым летом, когда в Ленинград с мамой ездили и ходили в Эрмитаж).
Я отставила работу в сторону, стала ждать дальше, наткнулась глазами на польский журнал мод «Uroda» на журнальном столике и тут меня осенило.
Я знала, где лежит его этюдник, с масляными красками! Кроме того, я знала что в соседней комнате есть бывший буфет, в котором ( и я опять таки знала где стоят любые растворители для масляной живописи, а также кисти и даже мастихин.
Моя решимость была сродни решимости вьетнамского солдата из газеты, который ещё недавно сражался уже с китайским милитаризмом, победив перед этим милитаризм американский!
Я поставила этюдник на все его три дюралевые ножки, сняла с круглого столика тяжеленный миксер «Воронеж» ( это было не легко, я едва него не уронила) положила вместо миксера модный журнал, где была нарисована женщина в клетчатой юбке «миди» и светло- голубой кофточке, бодро намешала красок и стала одевать сестру.
Чтобы работа лучше спорилась, врубила магнитофон с «Аббой».
Я так увлеклась этим занятием, что пропустила мимо ушей звук подъехавшего мотоцикла. Обо мне не знали. Обо мне забыли и я увлечённо прописывала светотени на голубой кофточке, вздрогнула, когда услышала голос из за спины : «Мелкая, спускайся и садись в машину!».
Меня выдворили почётным эскортом. За рулём сидел папа, на переднем сидении рядом был Даня и всю дорогу все молчали.
Мы с Даней вышли возле монумента с всадником, ведущим под уздцы лошадь. Вышли, а его отец уехал. От этого памятника рукой подать до пятиэтажки, в которой я живу.
-Мелкая, ты не обижайся, но между нами всё кончено.-Даня сказал это беззлобно и спокойно и пошёл в сторону троллейбусной остановки. Надвигались сумерки, -больше тебя к нам домой не пустят и я буду первым, кто не пустит. Так что, детка, прощай… Не обижайся если что. Это моя выпускная композиция по живописи.
Я шла к своему подъезду и думала, что реальной жизни сестра не надела бы такой юбки, потому, что с детства не любит клетчатые ткани, ну вот не любит и всё. И что вообще между нами кончено, если ничего не было? Меня не пустят в их дом, не напоят молочным коктейлем с косточками от малинового варенья, не дадут соломинку, не станут учить трогаться и останавливаться на мотоцикле, не скажут, что мне ещё рано, когда будут пить вино за столом и от меня не убудет.
В художественной школе был выпускной, в классе, где стоят мольберты и мы моем кафельные плитки, служащие палитрами, был сладкий стол и дискотека. Со мной весь вечер протанцевал мальчик, мой ровесник. Потом пришли родители и повели домой.
Даня не мог мне позвонить, потому, что у нас не было телефона. У них был, а у нас не было. На телефон очередь. Когда я буду вступать в Союз художников СССР, к тому времени проведут.
Я ходила на Чернышевского, где жили мамины папа и мама и соответственно мои дедушка с бабушкой, ставила натюрморты и писала их маслом. Я уже не хотела стать астрономом, как мечтала с детства и твёрдо решила стать художником, ну или художницей, ну вы меня поняли…
Чтобы взглянуть в твои глаза
Чтобы шепнуть тебе на ушко,
Чтоб поцелуй отдать устам
И чтобы просто не было скучно
Я исполняю ганец на цыпочках,
Который танцуют все девочки,
Я исполняю танец безхитростный
Который танцуют все девочки моего роста.
(Анастасия Полева)
Поезд трогался, а я смотрела в окно, в окне было лето, крытый металлом купол железнодорожного вокзала, колоннада ресторана «Дорожный», несколько деревьев, перрон с черно белыми железными урнами, провожающие, милиционер и маленький синий фрагмент неба.
Меня ждала в Харькове сестра. Сестра закончила там художественное училище и осталась жить на квартире, восторгаться Харьковым и звать меня поступать туда же. Я боялась, что Даня явится на вокзал и у него будет разговор с папой, но он явился помахать рукой, но стоял в стороне, озираясь, чтобы мои родители, провожавшие меня, его не заметили. На нём были какие-то не модные, большие солнцезащитные очки и смешная курортная кепочка белая в розовую полоску, для того чтобы спрятать отросшие ниже плеч патлы. На секунду мой и его взгляды встретились, но я не смотрела на него долго, чтобы не определяться.
Мне шестнадцати нет, а ему двадцать два, мама и папа не знают, что мы встречаемся. Мне вроде бы и нельзя с ним дружить, потому, что он бывший парень моей старшей сестры. Но если очень хочется, то можно.
Он всё же явился. Стоит в тени дерева совсем в стороне, там, где кончается перрон. Машет мне рукой, поезд движется, и я машу в ответ. Поезд медленно идёт через город, ещё некоторое время и я больше не принадлежу этому городу.
Смотрю в окно и они все замедленно двигаются, Лена –моя маленькая младшая сестра, ещё в старшей группе детского сада, папа мама, незнакомые люди, тени от деревьев, синие тени, свет на асфальте- нейтральный жёлтый, немного охры и белила, если писать это маслом, то надо долго размешивать мастихином.
Даня всё время говорит, что моя пастозная манера писать маслом весьма манерна и не жизнеспособна. Ему не нравится всё, что я делаю, когда беру в руки кисти и краски. Сама не знаю, что меня удерживает в его поле. И ещё я не уверена, что у него нет никого, кроме меня, потому, что со мной он очень сдержан. Со старшей сестрой всё было как раз наоборот.
Моя полка нижняя в купе. Еду с какой-то молодой парой, ну может не очень молодой, но и не старой. Ещё одна верхняя полка свободная. У молодой пары кассетный магнитофон. Ну конечно же я не возражаю, чтобы Анатолий(так зовут попутчика), включил музыку. Играет «Машина времени».
В песне слова, про то, что кто-то сошёл где-то под Таганрогом. Надо же, мы как раз проехали Таганрог. Я поменялась с Ларисой(так зовут попутчицу) полками и теперь лежу на верхней полке и в лицо дует ветер, к тому же очень интересно смотреть как изгибается поезд. В волосах тёплый ветер красных( кадмий с оранжевым и белилами) сумерек, ближе к закату. В сумерках видно море, Азовское наверное. Главное, что ровный горизонт. Я была на море на каникулах из пятого класса в шестой, то есть целую вечность тому назад. Странно видеть идеально ровную линию горизонта, хочу на море.
Ночь. Грохот колёс. В окне лесополоса и ни огня, только звёзды и лес. Я лежу, уставившись в потолок купе, на параллельной верхней полке храпит мужчина. Внизу видно Ларису, её длинные чёрные волосы пятном окаймляют лицо. Все, кого я оставила в Энске, наверняка спят, кроме папы, у него ночная смена на «Гидрометзаводе». Папа будет спать утром,( не люблю носить часы и поэтому не знаю, сейчас уже завтра или всё ещё сегодня).
Перед Харьковом надо снять трико и надеть платье. Сестра прорывается ко мне через толпу. Она в джинсах и на мой взгляд слишком ярко накрашена. Моё общежитие недалеко от вокзала, комната на третьем этаже. Я в комнате одна. Из комнаты видна большая площадь, на площади видны автомобили, автобусы и трамваи.
Я вышла в город сама, побродить по городу, далеко одна не пойду, потому, что город не знакомый. Купила « Зошит для малювання» и черную шариковую ручку, потому, что надо писать письмо Дане и рисовать для него площадь с трамваями. Даня сентиментальный, уверена он сохранит моё письмо. Жаль только, что он такой старый.
Галка живёт в общежитии в районе трамвайного депо и к ней надо долго ехать. В Харькове есть метро, как в Москве. Я один раз была в Москве с мамой, мы жили в «Доме аспиранта и стажёра.» В художественной школе меня перевели из подготовительной группы в первый класс а саму художественную школу тоже перевели с улицы Головко на улицу Пушкина. Мне там покупали этюдник, вот этот большой. Галя долго меня высмеивала- я не высокого роста, если я хочу поцеловать Даню, мне надо вытягиваться на цыпочках.
Время бывает внешним, текущим мощной рекой, монотонно и однообразно и внутренним, зависящим от состояния индивида, в то время как каждый отдельный человек не в состоянии управлять внешним объективным временем, будучи наделён способностями к самоорганизации и саморегуляции, он способен хоть и относительно успешно управлять если не внутренним временем, то хотя бы той частью собственного естества, которая отвечает за внутренние часы и если человек находится в затруднительных ситуациях, то внешнее время начинает превалировать над внутренним и ход его замедляется.
Галя по вечерам оформляет железнодорожное общежитие и поэтому я тут живу. Когда темнеет из окна виден «Южный вокзал» с уезающими иприезжающими поездами. А прямо сразу под окном остановка трасмваев, здесь оранжевые лампочки и много человечков.
А дальше в глубь уходят большие дома и мне нравится на них смотреть, когда приближаются сумерки.
В окне виден зелёный травянистый бугор и универмаг с серпом и молотом, а за поворотом ещё одно здание с колоннами и большое.
Мы с сестрой идём по путям к её съёмной квартире. До неё недалеко, идём через пути. Бедная Галя не знает, о ком я сейчас думаю.
Однажды у нас был разговор с Даней.
Он: Я подарю тебе колечко и сошью фату. Хочешь?
Я: Я ни о чём таком не думаю.
Он: Выходи на улицу, я выгоню мотоцикл.
Я: Я не хочу кататься.
Он: Я отвезу тебя домой.
Я: У меня ещё есть время.
Он: У меня его нет.
Он против обыкновения не надевает шлем, мы едем по его улице в частном секторе почти до папиного завода, а потом он как бешенный гонит «Чезет» по лужам, потому, что начало марта, нас окатывает грязью из луж и ветер тяжёлый и плотный, потом мы едем подворотнями, петляем и выныриваем почти, что возле нашей пятиэтажки. Он почти злобно бросает: «Слазь» и я стою у подъезда а он уносится за угол и исчезает жёлто-оранжевый чезет и его идиотская девчачья шапочка с бубончиком исчезает.
Я стою у двери квартиры и кусаю от досады губы.
Я ему не звоню неделю, другую и третью, и «чезет» не появляется и Данька тоже и зло берёт, да пойду я за тебя замуж конечно, но кто же нас распишет, если мне и шестнадцати нет.
Я явилась сама, как ни в чём не бывало. Данька сидел в своей комнате перед своим видеомагнитофоном, подаренным старшим братом –моряком и смотрел фильм с Брюсом Ли. Кассет у него было мало и все про восточные единоборства. Я видела этот фильм и было не интересно, пила принесённый им чёрный кофе, грызла шоколадку.
Потом вдруг спросила, а где моё колечко?
Он улыбнулся, посмотрел на меня зелёными, неестественно зелёными глазами и сказал: «Мне надо в армию сходить, военкомат обо мне вспомнил. А пока я буду служить, тебе будет восемнадцать и будет колечко.
Домой я поехала на автобусе, он поехал со мной.
Посмотрел в глаза, провёл рукой по волосам и даже не поцеловал. Я смотрела из окна на остановку, он стоял и смотрел на линию садов на противоположной стороне улицы. Большие деревья, ветки качались и его длинные волосы и полы плаща всё это двигалась от ветра. Когда подъехал его автобус, я смотрела как он заходит в него. Он посмотрел из окна автобуса на наше окно на первом этаже в тот момент когда я задёргивала штору, но он увидел и помахал рукой и я тоже увидела.
Данька всё время ходил с большим чёрным зонтом, когда не приезжал на мотоцикле. Иногда его на наши встречи привозил отец на их всегда отполированном до блеска «Москвиче» и у меня ощущение, что их машина не пачкается.
У Дани есть права и изредка он берёт отцовскую машину, но это бывает редко, потому, что он делает всегда одно и тоже и в одно и то же время.
Если лето, он встаёт по утрам и бежит по своей улице до озёр, где высокая красного кирпича гостиница, забегает за ресторан «Берег», делает зарядку и бежит домой. Он не ленится всё это делать до работы. Потом едет на шестёрке на «Телемеханику», где работает художником-оформителем и называет это работать по специальности. Если ему не надо на работу, то он по расписанию с известными только ему интревалами молотит руками и ногами грушу подвале, подтягивается до изнеможения на турнике.
Галя говорит, что он почти никогда не ходит пешком по улице, как будто боится чего-то.
Поезд в окне общежития железнодорожника из Энска приходит в одно и то же время, при этом я смотрю в окно и грущу. Подумалось, что у меня нет часов и надо
Однажды мы гуляли по садоводческому товариществу «Семиренко» возле наших домов и к нам пристали два пьяных мужика, что-то говорили невнятное, просили денег и я увидела как это работает, во всяком случае поняла для чего ему зонт.
Их схватка была не очень долгая, тот мужчина который был пьяный, но худой лёг сразу, а вокруг толстого и здорового и тоже очень пьяного Даня крутился, нанося удары и уворачиваясь, ужас и кровь, на их лицах, на даниных руках, на Дане, на его смуглом лице, схватка затягивалась, здоровяк трезвел от боли и очевидно становился сильнее и ставка может быть больше чем жизнь, бессмысленная ставка.
В чьём- то дворе истошно лаяла и гремела цепью собака, мужчина что-то орал, а Данька только дышал, дышал так, что было слышно дыхание и бегал вокруг бедного поверженного пьянчужки, при этом он несколько раз отбегал и для чего-то с силой пинал ногами, уже лежавщего на утоптанной пыльной грязи, мужчина пытался встать, но удары ногой сыпались именно при попытке встать, мужчина падал, было страшно, но длилось, Данька безотчётно тряс пятнистй от крон деревьев и солнца гривой, пропустил несколько ударов большого, его лицо было в крови, большой пытался его схватить, но Даня отбегал, останавливался и вновь разбегался и бил.
Всё было не похоже на индийский фильм «Месть и закон», всё было настоящим, мерзким и хотелось убежать, но отошла и смотрела.
Он оставил мужика, взял меня за руку и пятясь начал отступать, так что мне приходилось смотреть вперёд. Мужик пошёл на меня, я завизжала и стала убегать, Даня сзади подбежал, схватил за шею и свободной левой изо всех сил молотил, я увидела это каким-то боковым зрением и рванула по дачному проулку, заросшему травой, по узкой протоптанной тропочке, мимо сеток из рабицы и дачных домиков и домов.
Из дачного домика вышла старуха, и начала кричать. Данька схватил меня за руку и мы убежали , неслись до аэродрома, мимо прозрачной аэродромной изгороди и от той погони мне запомнилось, что там был белый гигантский сачок с красными полосками который красиво ловил ветер, поворачиваясь в сине зелёную даль за аэропортом.
Потом мы вышли к автовокзалу и Данька сказал мне «садись». Мы сели и поехали к нему. Он вытащил из холодильника-бара бутылку коньяка, две рюмки и спросил буду ли я, сказала что не буду, он выпил залпом свою рюмку, а потом мою.
Больше мы никогда не гуляли в районе дач, в моём районе тоже не гуляли.
Не думаю, что он боится, но он не изменил своему расписанию- на улицы или на мотоцикле или на отцовской машине, гулять только на своём районе и не в темноте, если я засиживалась допоздна у них в мансарде, которую они называют «библиотека», то отец, который почти всегда по вечерам дома отвозит нас до самого подъезда. Мне кажется, что Данька всем делится с отцом, а отец пытается выглядеть молодо и поэтому оба носят остроносые туфли на высоченном скошенном каблуке, что является как говорит Даня «новейшим веянием мужской моды этого сезона».
-Галя, а почему ты рассталась с Даней?
-Тебе то, что до этого, Юль?
-Мне кажется он положительный.
-Бывают мамины сынки, а этот папин.
-И всё же.
-Я не хочу остаться в Энске. А Данины родители окопались там, корнями вросли в город. Дом в центре, гараж, всё прочее. Я ему говорила, давай останемся в Харькове, когда диплом плучали. Можешь пока на стройке поработать.
-А он?
-А он завёл свой любимый долгоиграющий диск, где одна мелодия «Меня дома ждут. У нас в Энске есть где жить». И я поняла, что это приговор. Я не хочу в их убранный, набитый аппаратурой дом. Потому, что этот дом в Энске.
Вздыхаю: «Всё ясно, Галя, не заводись»
Галя смотрит на меня испытующе, а потом говорит: «Знаешь, сестра, наши мама с папой поженились по большой любви, и что в итоге?
Тесная квартира в пятиэтажке, неизвестно для чего проданные полдома, вредная работа у папы и никаких перспектив.
-А какие здесь перспективы?
-Здесь большой город и сплошные перспективы, которые ты по малолетству не понимаешь. Жить в большом городе, где метро, бары, рестораны, концерты. Ты осмотрись, потом поймёшь.
(Я смотрела на сестру, идущую по Сумской параллельным курсом, смотрела на автомат газированной воды и думала о том, что бы она сказала, если бы узнала, с кем я встречаюсь. Она неизбежно об этом пронюхает. Только пусть будет потом).
-Галь, у тебя есть три копейки?
Галя порылась в сумке, достала три копейки. Сироп был грушёвый, не люблю такой, допила до половины, вылила туда, где моют стакан, потом бросила копейку и автомат выдал газировку без сиропа. Так намного вкусней.
Время это утренний чай в общаге, где нет холодильника и есть только общая газовая плита на несколько комнат, время это видавшая виды деревянная койка и поезда, на которые смотрю в окна, поезда в скрещениях веток, проводов, асфальта, неба, серых с ультамарином силуэтов птиц, облака, разной степени размытости, поезда разной степени освещённости.
Понедельник. Вторник. Среда. Обед в диетической столовой в районе железнодорожного вокзала. Галя взяла два гуляша, сказала что в котлетах нет мяса.
Мы с Галкой питаемся в общепите, вечером у неё свидания и она уходит, можно бродить по городу и заявление в училище уже подано.
Во вторник первый вступительный экзамен – рисунок. Сказали, что будет натюрморт не сложный, Галя сказала, что будет гипсовая голова, чтобы преподаватели смогли посмотреть, кто что может.
У меня всё время ощущение, что я иду по её стопам, она поступает в «художку» и я туда же, она заканчивает харьковское художественное училище, и я еду сюда же. И теперь я люблю её парня. Нет, Данька ничей. Хочу чтобы он был моим, но у меня пока нет сил, я пока как астероид, попавший в поле гравитации другой планеты, кручусь, но пока не хочу вырваться, но я такой особенный астероид, я хочу стать планетой, хочу но у меня пока нет сил.
Энск зелёный город, там много деревьев, в Харькове деревьев меньше и пыль- песочный город.
Данька прокрался в мою память, я не хотела, но он заполнил все пустоты, полости. Последний год в восьмом классе я была для конспирации записана в различные секции от волейбола до настольного тенниса, но мои родители не знали, где я нахожусь. В Данькиной комнате стоял натюрморт, который я писала, книги, которые читала, слайды. Мне кажется, что Елена Владимировна, - его мама и Исай Рафаилович, его папа ото относились ко мне так, как будто я их дочка, но никак не девушка их сына. ( Если честно, мне кажется и Даня так ко мне относится.)
По Дане можно изучать генетику- мама естественная голубоглазая блондинка, а Данька чёрный, смуглый и рослый, похож на индуса из «Зиты и гиты», смуглый, кудрявый и похоже давным-давно забывший, как выглядит парикмахерская.
Хорошо и дорого одетый затворник своих девяти соток, потому, что родители купили у соседей половину участка под огород. Там возятся дедушка с бабушкой, дедушка какой –то большой милицейский чин в отставке, они живут в центре, где старая «художка» была, которая была раньше, в пятиэтажке.
Данька учил меня медитации. Не знаю, была ли это медитация- мы сидели в бывшем дедушкином кабинете в мансарде и через метроном смотрели на свечу, а в старинном магнитофоне играла какая-то инструментальная музыка.
Почему-то во всех подробностях вспоминается та поездка, когда мама ушла на работу, и папа тоже и младшую увели в садик, а я прыгнула на автобус и пошла к их дому на «Учительской», а его отец работал дома- рисовал под навесом «сухой» кистью большого Владимира Ильича Ленина- у них во двое за домом большое помещение из одних старых окон и не отапливаемое, там много света, зимой там холодно, но папа там выполняет оформителские работы, хотя в молодости окончил художественно –графический интститут.
Папа посадил нас в машину и отвёз в лес, сказал обратно сами доберётесь и Данька собирал облепиху, а я писала этюд маслом и я везла домой колючки и в автобусе все ругались, а я представляла себе метроном и горящую свечу, молчала, но облепиху пришлось оставить в Даниной комнате, потому, что дома и папа и мама будут спрашивать, откуда.
У Дани отец официально заведующий клубом «Курортпотребсоюза», а не официально много кто.
Мне нравится их большой дом, но больше всего нравится библиотека, которая в мансарде. Там много книг по искусству, тёмно синяя «Большая Советская Энциклопедия» все пятьдесят томов, альбомы Рубенса, Джотто, Тициана, там почти весь Ремарк. Я долго не хотела читать Ремарка. Но потом втянулась.
Мы в этой комнате медитируем под старый магнитофон.
Все свободные участки свободные участки стен, свободные от книжных полок занимают Данины работы из училища.
Однажды Исай Рафалович поднялся на мансарду за книгой, постучался в закрытую комнату, где я размазавшись в старом, громоздком кресле, казалось приросшим к своему месту возле окна с видом на соседские грядки и курятник рассматривала альбом Сальватора Дали и пыталась прочесть что-то по английски( и где они только всё это достают!), Исай Рафаилович посмотрел на Данькин натюрморт и сказал: «Какие бессмысленные и бездушные натюрморты в вашем училище. Вы не возражаете, молодые люди если я покурю, пока мать не видит.»
Я смотрела на паспарту с натюрмортом, дядя Исай стоял с неизменной сигаретой «Ту -134» возле форточки и слышала «натюрморт обязан быть симолом, маленьким рассказом, слепком настроения а не таким бессмысленным и бездушным нагромождением предметов..»
Я вышла из короткого транса в этом здании красного кирпича, где –то в центре незнакомого и большого города, в котором надо остаться, чтобы вырваться из Энска, и даже золотая клетка Даниного дома, где целая студия звукозаписи, видеомагнитофон, два цветных телевизора и всего, что наживают непосильным трудом его родители, доброго, добротного и большого дома, где все так любезны, а из меня по всей вероятности воспитывают его будущую молодую жену, чтобы оторваться от этого надо нарисовать этот натюрморт и первая мысль завалить рисунок и я нехотя рисую этой деревенской девочке, не умеющей рисовать все эти книжки, часики, статуэтку Будды, но потом в голове перемыкает, переключается, и работаю очень быстро уже со своим листом бумаги, я вижу только натюрморт, ощущаю воздух, пространство, стираю вспомогательные линии и просто отдаюсь рукам и мягкому карандашу, регулируя его касания, его дыхание, точу прямо на пол белым лезвием, мне мешает табурет и я стою и с моим ростом так удобнее и кажется время остановилось и какой –то полный мужик треплет за плечо. Стоп. А вот я чужой город.
Смотрю на то, что вокруг меня собрались люди и выхожу из транса.
Нет, это не моя работа. Если бы Дюрер в расцвете своих творческих возможностей стал бы рисовать этот натюрморт и вдохнуть в него смысл…
Когда я выхожу, мужчина подходит ко мне и говорит: «Девушка, постарайтесь не опоздать на живопись, потому, что нам надо сохранить работу для отчёта. Ну, вы понимаете. Вы зачислены.
Я не знаю, кто этот человек. Мне ещё нет шестнадцати, я пока ещё не разучилась доверять взрослым.
Когда был экзамен по живописи девушка, которой я помогла справиться с построениями по рисунку опять села рядом со мной. Из серого неба шёл медленный дождь и в классе дребезжали неоновые лампы. Освещение у натюрморта с крынкой, несколькими муляжными яблоками и медным узкогорлым кувшином было какое-то тоскливо неживописное и не предполагало каких –то особенных усилий от живописца, тем более, что всё это предполагалось писать быстро и на плохой казённой бумаге, без подрамника, просто присобаченной кнопками к листу фанеры на простейшем мольберте.
Мне стало скучно и в высшей степени всё равно поступлю я или нет, поэтому рисовать всё это карандашом я не стала, бодро перейдя к подмалёвку сильно разбеленной гуашью. Синяя однотонная драпировка смотрелась также уныло, я намешивала что – то напоминающее локальный цвет и пастозно, не жалея гуаши вываливала всё это на лист бумаги.
Я увлеклась этим ляпаньем красок так, что снова забыла о времени и пространстве, мне не особенно хотелось, чтобы было совсем по дилетантски, бумага мокла, я продолжала упорно работать а ля прима.
Когда я вышла из транса, мой лист был уже покрыт красками, в то время как другие только заканчивали рисовать карандашом, при этом все работали по одному шаблону, рисовали карандашом вот здесь тень, вот рефлекс, вот блик.
Всё, что было на листе ватмана должно было просохнуть и почти час я ничего не трогала, только тихо подсматривала, как рисуют другие, успела даже удивиться, что не умевшая рисовать девочка в целом довольно грамотно набирает цвет, хотя вот этим набором гуаши на шесть цветов, приобретённом в магазине возле общежития на Южном вокзале особенно не распишешься, будь ты хоть сто раз Тициан.
Когда слой гуаши подсох, стала прописывать какие –то мелочи, полоски на муляжных яблоках, подсиненный драпировкой блик на медном кувшине, затем от скуки стала до конца экзамена вырисовывать цветочки и листики на драпировке.
Когда пришла смотреть списки поступивших, сомнений, что увижу свою фамилию у меня не было и я её увидела.
На почтамте заказала переговоры, к телефону подошла его мама и не очень обрадованным голосом промямлила: «Дома, сейчас позову».
Поезд прибыл в Энск в десятом часу дня, в Харькове я обесцветила волосы в парикмахерской и стала блондинкой. Поезд тянулся уже по городу, а я докрашивала глаза тенями с блёстками.
Даня стоял возле своего мотоцикла, был одет в немыслимо широкие джинсы клёш и приталенную рубашку, на руках кожаные перчатки с обрезанными пальцами, но в глаза бросались туфли на немыслимо высоченной платформе. Рядом стоял их «Москвич», за рулём сидел его брат, не видела раньше, потому, что редко приезжал, брат сказал, что отвезёт сумки и чтобы не беспокоилась.
-Даня, а ты волшебник?
-Нет, но для тебя постараюсь, чего хочешь, мелкая?
-Добрый волшебник, а вы не могли превратить для меня воздух в камень?
-Нет, не мог бы, но я могу наглядно показать вам, что чувствует парусник, идущий под ураганным ветром.
-А в не могли бы приютить у себя дома маленькую, уставшую от скитания по чужим песочным городам художницу?
-Ну разве, что речь идёт о вас, маленькая принцесса.
-Ну так превращайте!
Даня сам застегнул на мне мотоциклетный шлем и нарочито степенно покатил по центральной улице, туда, где там, где должна быть точка схода горизонтальных линий, туда, где у зелёной горы виднелась стремительно приближающаяся телевизионная башня и белела не до конца обтаявшая, напоминающая белую палатку другая , далёкая гора.
В конце улицы, где поворот на подъёме мы остановились. Город лежал внизу, утопая в зелени под неестественно синим, как будто написанным кобальтом с берлинской лазурью небом.
Лишь небольшие мазочки размытых белил маленьких облаков, их клочков, фрагментов, пушинок. Даня заглушил мотор. Мы слезли, несколько минут слушали тишину, кузнечика, каких-то птиц, далёкие вибрации города жившего там внизу, чуть ощутимый гул, внятный лишь внимательно слушающему тишину.
« А теперь садись и держись за меня очень крепко.
Сейчас ты почувствуешь как это, когда ветер становится твердыней(слово то какое странное «твердыня», уместно ли оно здесь? «твердыня».
Мы не столкнулись с другой машиной, не разбились и не упали. Но я физически ощутила как это, когда скорость. Мотоцикл несся почти до «Культпросветучилища», которое на окраине города, выжимая по- видимому всё, на что был способен мотор летом на горячем асфальте . На несколько секунд я попала в другое измерение и, кажется увидела его, где только вибрации воздуха, трудно сделать вдох, ещё труднее сделать выдох, гул мотора отрывается и остаётся где-то позади и ты плывёшь в ласковом океане ничем не замутненного, без единой чревоточинки, без слов, без музыки, без эмоций и даже без слов от какого-то любого языка, абсолютного, безмерного всё же существующего здесь и сейчас ,в эти несколько секунд, спрессованных в вечности, эры, (тик так, Салватор Дали в альбоме, постоянство памяти тик так), да я знаю, что это, это да вот оно, Данька, я всё поняла! Я прижалась ладошкой, маленькой, почти детской(а может быть действительно всё ешё детской?) ладонью к заклёпке на планке застиранной джинсовой рубашки, прижалась белым мотоциклетным шлемом к твёрдой спине (Данька я космонавт!) и вот оно-счастье!
Глава вторая
Тяготение
…узкая улица, город где родился, облупившаяся краска на двери; обо мне, об ореховой роще, обо всех кого любили однажды.
Думаем, что не надолго уезжаем от родных очагов, а бывает, что навсегда. Кто, придя в этот мир увидел свет, тот не узрит ничего кроме света. Кто родился свободным, тот не подумает о мире, как о тюрьме. Кто из нас знал своих сестёр? Кто из нас заглядывал в сердце своей мамы? Кто из нас не видит, что все отходящие от дома направления принадлежат ему или ей? Кто из нас не хочет чистого тёплого и приветливого дома, семейного очага, приветливой встречи уюта родного гнезда? Радость творческих находок, сотканных из далёких зовущих солнц на этом быстром, радостном отрезке, именуемом жизнь, обретённая, сохраняй её, береги, сбереги! От первого крика при рождении постигаем новые языки, строим дома, садимся в новые поезда, где пункт назначенья - счастье.
От нас потребуют, чтобы мы стёрли память о тех, кто во многом нас создали, я сделаю вид, что им покорна, но они не увидят ту искру, что горит в самых тайных, потаённых, глубинах разума, в недрах срытых, переплетённых нейронов, знание ослепительной белой искрой посреди багрового, ультрамаринового и анилинового синего. Я заслоню это копной волос, стряхну морок, делая вид, что убираю с глаз чёлку. Это не ваше, оно принадлежит только мне…
Штирлиц всё же провалился, и провал приехал на синем горбатом Запорожце папиного друга – машиниста мостового крана Жорика, потому, что Даньфос решил купить две бутылки сладкой воды «Саяны», а ещё потому, что во дворе у его друга Илико под пластиковым навесом с зелёной ребристой крышей стоит стол для настольного тенниса, у меня детский разряд, и я играю лучше Даньфоса и Илико, а эти не могут понять, почему проигрывают, оба мокрые и разгорячённые.
Я- ворона, как всегда не ждала ничего подобного, глазела на улицу за телефонной будкой и пошла к дверям чёрного пластика с алюминивыми уголками.
Даня и Илико зашли в хозяйственный магазин, который в соседней двери, только почему-то из ядовито – синего как медный купорос пластика с такими же алюминивыми уголками и большими прямоугольными датчиками сигнализации, как и дверь соседнй части магазина, но эта дверь с окошками и в отличие от той, что на продовольственном магазине не двустворчатая а одностворчатая.
Я зашла за телефонную будку, пила из горлышка колючую лечебно-столовую воду «Боржоми», тёплую, потому, что с витрины, но полезную, потому, что так написано на этикетке, пила потому, что лето в разгаре и хочется пить.
Илико показав свои красивые зубы, промолвил: «Даньфос, пошли в хозмаг позырим, там офигенные ножички привезли», - а я стояла возле телефонной будки, из которой всё равно не позвонишь, так как там выбиты стёкла (давно), а микрофон в трубке раскурочен (не очень давно), знаю, что недавно по причине того, что из этой будки звонила Даньфосу и говорила «Струильчик, я на перекрёстке тебя жду», ненавидела вандалов, потому, что придётся звонить у калитки и ждать, до тех пор пока кто-нибудь выйдет, слушая, как разрывается в соседнем доме здоровенная шавка, рвёт цепь и гавкает с понтом я в их драгоценный дом лезу.
Я смотрела, как парни рассматривают ножички через окно, которое в двери хозмага , снаружи, так как мне не очень нравится осуждающий взгляд продавщицы, видевшей этих же парней в компании моей старшей сестры – их ровесницы, или её в их кампании, главное, что когда-то на протяжении длительного периода видела их вместе вместе. По жестам обоих я поняла, догадалась, что повторится сценарий, который уже бывал, сейчас оба пойдут по домам, возьмут у родителей денег и купят по премьерному, ещё отсутствующему в их коллекциях складному ножу с лезвиями, ножничками, шилом - чем бы дитя из обеспеченной семьи не тешилось… Думая, что если пойдут за деньгами домой, покупать ножи, попрошу, чтобы и мне купил, раз деньги всё равно некуда девать.
С этими мыслями я вышла из-за будки, где испорченный таксофон и остатки резинового коврика, а также стрёмный осколок недовыбитого стекла на самом нижнем сегменте железных рам для стекол( никому не мешает вот и не довыбьют никак), выходя из за вечно открытой двери серой телефонной будки столкнулась с отцом, роднее всех родных.
У папы в руках авоська, в которой три бутылки портвейна, две бутылки жигулёвского пива, консервная банка «Фарш колбасный любительский» и другая консервная банка «Камбала в томатном соусе», а также бутылка водки, в другой ситуации это говорило бы о том что у них на гидрометзаводе аванс, но в нашей ситуации говорило о том, что наплету что – нибудь, лишь бы парни не вышли. Я молчала и глазела на содержимое авоськи.
Илико держал в руках складной ножик, поблескивавший перламутровыми накладками, на Илико канареечного цвета футболка с белой полоской у шеи, русая чёлка и большие, принимавшие цвет окружающего мира серовато голубые глаза.
«Мелкая, пошли, я буду отыгрываться!».
От неожиданности папа застыл с авоськой в руках, мы оба были совершенно не рады внезапно наступившему случаю нашей спонтанной встречи, но каждый был не рад по - своему.
Если натюрморт под названием « послеавансовый отдых советского гидрометаллурга» по традиции будет уничтожаться у нас, потому, что наш папа в подпитии ездить по городу не будет, мама пить портвейн не станет, а к водке точно не прикоснётся, то дома меня ждёт втык по полной программе, втык сопровождаемый нотациями о девической чести, правдивый( это без иронии) рассказ о том, что наша мама его первая и последняя женщина ( они с ней сначала ходили в один и тот же класс, потом в ЗАГС, потом папа ездил к ней за Галей в роддом, потом отлучался в ряды советской армии, потом ездил за Леной в роддом, в тот самый роддом, который как раз в том больничном городке, в который упирается та улица, на которой я сейчас стою.
Тут вышел из магазина Даня, увидел сцену и опять зашёл в хозяйственный магазин.
Мой папа ходит в шахматный клуб, ум у него аналитический, выпивает он только в праздники (не во все), а ещё в аванс и получку, почти всегда или с журналистом Подъяпольским или с дядей Жорой- крановщиком и хозяином этого горбатого «запорожца». А так почти всегда трезв и ум у него аналитический, к тому же приходившего свататься к сестре Даню знает совсем хорошо. Женя Лукашин из фильма на новый год сбежал от невесты в Ленинград, а сестра сбежала от жениха в Харьков.
Папа сказал, чтобы я ехала домой.
Я сказала, чтобы меня отвезли домой.
Меня посадили на чехословацкий мотоцикл «Чезет», надели шлем.
Мотоцикл медленно доехал до площади с постаментом, где танк, вырулил на прямую линию шоссе и повёз меня в направлении моего дома.
-Пока, мелкая. Приходи завтра, в пинг-понг погоняем. Я часиков в шесть буду дома. Может я пойду, объясню твоим предкам, что ничего нет, никаких шуры-муры.
-Сама справлюсь. Я с завтрашнего дня на Чернышевского буду в старом доме. Придёшь с работы, позвонишь в калитку.
Мой мир разделился на два периода- до поступления в училище и после поступления. Там, в Харькове, я почувствовала почву под ногами, осознала, что не надо во всём слушать родителей, что свободна как никогда.
Мой адрес – не дом и не улица. Это не совсем точно, мои адреса всегда будут дом и улица, просто я точно не знаю, какие дом и улица.
Меня высадили возле парикмахерской и теперь надо идти между детским садиком и котельной, в этот детский садик ходит моя маленькая сестра, которая выходит во двор пятиэтажки и направляется в свою подготовительную группу, забор в детский сад выходит во двор нашей пятиэтажки, панельной и серой, где возле нашей двери выцарапано разное, это не мой мир, мой мир- старый дом, двор с грушами, абрикосами и черешней, где я пришла в себя, где я поняла, что я - Юля и, что есть Юля и весь остальной мир.
Наша квартира – на первом этаже и все окна выходят на всегда полную машин улицу Гагарина. В первой комнате папа спит после ночной смены. Из этой комнаты попадаешь в нашу, там жили мы втроём, когда я уеду, она скорее всего превратится в папину и мамину спальню, а сестру выселят в проходную комнату, у нас в доме сто процентная слышимость.
Я знаю, что по ночам люди занимаются этим. Потому, что сплю чутко и у меня сто процентный слух, хотя может и не очень музыкальный, мы с сестрой художницы, а не музыкантши.
Я захожу в квартиру, смотрю на дулёвский сервиз, смотрю на блюдо на стене, расписанное Галей, смотрю на свою картину «Боярыня Морозова»( не путать с классической), моя первая большая работа маслом, когда Даня был к нам вхож на правах жениха сестры и при этом ещё однокурсника, он над этой работой издевался.
Работа на подрамнике висит на стене, хотя и никому в том числе мне уже не нравится, на синей двери в нашу комнату, прямо по курсу магнитола «Урал», возле окна телевизор новый но черно белый, мама в очках, словно приросшая к швейной машинке, во всём замедленная статика.
Я сыграла на опережение, приехала раньше папы, скушала на кухне тарелку маминого борща и пошла в свою комнату нянчить младшую сестру, я примерная девочка, такая девочка не позволит себе гонять по городу на мотоцикле и играть в теннис со взрослыми парнями, (хотя собственно почему бы и нет?
В нашей с сестрой комнате нет радио, нет телевизора и магнитофона, нет даже радиоточки, поэтому слышно, как гудят на Гагарина моторы, сигналят клаксоны, чирикают воробьи, как отец снимает обувь, как вкидывает меня маме, как они обсуждают сложившуюся ситуацию.
В этой ситуации у Гали испорчена жизнь, а у меня только начинает портится, но она будет испорчена, вся судьба исковеркана и конечно –же Даня( жду, когда же он меня поцелует, но видимо не дождусь), Даня конечно же виноват.
Папа собрался идти и разговаривать с Даниными родителями.
Я знаю, что будет дальше, что скажет Данин отец.
В тот вечер папа и мама долго ещё всё это обсуждали, у меня сложилось впечатление, что их всё это волнует гораздо больше, чем может волновать меня.
Мне надоело подслушивать их голоса за дверью и я уснула.
Утро полное пения птиц и машин ещё мало, значит рано.
У папы снова первая смена, у мамы в статистическом управлении всегда первая смена, мама пошла сидеть в кабинете, переписывать кулинарные рецепты и работать прочую статистическую работу.
Я делаю наброски на бумаге, которую она приносит из статистического управления.
Перед уходом мама зашла в комнату, попросила, чтобы когда я высплюсь, я зашла к ней на работу.
Я конечно же зайду, а теперь надо спать.
Одна в квартире, «Боярыня Морозова» в шубе, которую я лепила массивными мазками, потому, что был период в моём творчестве, когда мне очень нравились такие мазки, что весь тюбик уходил на один – два мазка и я лепила шубу боярыни из сажи газовой, подмешивая то желтый, то синий, такой период прошёл, боярыня в утреннем освещении оказалась действительно «стрёмной».
То, что боярыня была «стрёмная» прозвучала от Дани в конфетно-букетный период его отношений с сестрой, полагаю, что такого периода у меня не будет.
Я прошлёпала босая по полосатому коврику, по жёлтому паркету, увидела дерево возле ограды детского сада, увидела штору, в комнате было светло и штора прозрачная, взобралась на диван кровать и сняла «Боярыню Морозову», сначала хотела выбросить в мусорку, но потом подумала, что исходя из моей гениальности и одарённости, начитанности и целеустремлённости со временем, если успевать по расписанью трудов праведных, то я стану великой как Андре Дерен и продаваемой как Пабло Пикассо, а тогда мне будет не хватать денег на покупку дома, ну хотя бы такого как у Дани, вот тогда «Боярыня Морозова» и будет продана какому –нибудь профану только потому, что это моя работа и из подобного рассуждения следовало, что работу не следует выбрасывать, а наоборот следует сохранять и беречь, хотя временно она вызывает у меня не желательные и болезненные комплексы, подарить картину никому нельзя, а то она будет утрачена, поэтому она временно будет перенесена для начала вечного хранения в запасник на Чернышевского.
В тумбочке справа от радиолы «Урал 112» стоявшего справа от стоявшей на собственных черных ножках устройства, которое хрипло и потрескиванием воспроизводило какую –нибудь одну из стопки запиленных пластинок студии граммофонной записи «Мелодия» апрелевского завода граммофонных пластинок находилась «Эстрадная орбита» в незапамятные времена привезённая сестрой первокурсницей из Харькова, поставила песню наугад, в комнату брызнуло «бэйби, бэйби, шуга ми», посмотрела на будущего гения, отразившегося в зеркале серванта, гениальную художницу заслонённой наборами запылённого хрусталя, осталась вполне довольной внешним видом художницы ибо Даня всё время говорит, что маленький рост не препятствует большому шарму и проследовала в маленькую кухню с окном, где в стационарной видимости детский сад, котельная из кирпича с трубой их кирпича(виден только фрагмент трубы так как котельная близко и начало частного сектора или конец короткой улицы имени пионера –героя Павлика Морозова, так как в природе есть различные точки зрения на конец, который может быть чьим –то началом.
В холодильнике «Орск» была пачка маргарина «Солнечный» начатая и завёрнутая, пачка масла сливочного масла под названьем «Крестьянское», начатая и почти до конца допитая бутылка водки и кусок ветчинорубленой колбасы не развёрнутый и оставшийся в серой бумаге, котрая бывает в магазине, которую продавщица отрывает и кладёт на весы перед тем, как написать карандашом какую сумму ты должна выбить в кассе.
В железной хлебнице на холодильнике была половина батона, там же на холодильнике лежали помидоры и огурцы, порезала помидор, для того чтобы завершить им бутерброд, залила кипяток во вчерашнюю заварку.
Предвкушение свободы, может быть ощущение свободы, может радость от свободы, удовлетворение от того, что вчера не было разговора с мамой и папой, из зала тянет «дерис де хас ин ню один» лайтиджи соул, «Дом стоящий там». Даня переводил, что дом в Новом Орлеане и что там во что –то играют и ещё что-то про джинсы, но у меня нет джинсов и денег на джинсы тоже нет.
Даньфос убеждает, что человек должен быть элегантен и красив сам по себе, а не тряпками, которые на него одеты и даже не надевает джинсы в последнее время из-за меня, хотя у него есть и коттоновые и вельветовые.
Вышла к гастроному, который возле большого памятника с человеком в бурке и папахе, ведущим коня, вытащила из дамской сумочки кошелёк, достала двушку, голос Даниной мамы в трубке сказал, что он помогает отцу что-то оформлять.
Рисовать не хотелось, поставила «Тич –ин» на проигрователь радиолы и уселась читать «Мастер и маргариту» с трудом раздобытую Даней.
Этой зимой в моё поле зрения попал журнал с графикой Нади Рушевой. Автор статьи писал, что девочка рано ушла из жизни а была в области графики гений.
Меня всегда хвалили ещё в подготовительной группе художки за рисунок, но я не замечала, что так привязана к натуре.
Про Надю Рушеву писали, что она рисовала, когда включалось бившее через край воображение.
Я попыталась рисовать как она, но выяснилось, что я почти не читала книг, кроме тех, что были по школьной программе.
Оказалось, у меня почти совсем нет воображения, а как же стать гениальной художницей и продавать как Пикассо каждый рисунок за большие деньги, если нет воображения.
Я решила прочитать роман «Мастер и маргарита», который был проиллюстрирован Надей, но выяснилось, что его совсем не легко достать. Даня сказал, что страстно хочет самообразовываться отцу, дядя Исай в своей книголюбской среде, в которой вращается стал спрашивать и вот наконец нашёл «Москва. «Художественная литература». Книга толстая с портретом автора, синими полосками и на обложке «Михаил Булгаков» романы».
Книга принадлежит какому –то человеку с польской фамилией Стампинский, её дали на десять дней, читать её следует быстро и очень бережно, она в очень хорошем состоянии и обёрнута калькой.
Полоски из под кальки напоминают тельняшку.
Ставлю на радиолу пластинку Булата Окуджавы, зачем-то мою руки, хотя они опять чистые, убираю постельное бельё с диван кровати,(мама уходит на работу после папы, часто не успевает, складываю постельное в тумбочку, отработанный ритуал.
Я так бы и просидела до вечера с книгой, а потом просмотр телевизора, вынужденный, потому, что как минимум обязательна «Вечерняя сказка» младшей сестре, я помнила, что надо заехать к маме в статистическое управление для неприятного (знала что неприятный, знала на какую тему, предвидела, как морщины у маминых губ станут ещё глубже, предвидела как смотрю на её платье а ля семидесятые, на химическую завивку, на внимательные карие глаза.
Я не могла знать, что моя мама вышла из своего статистического управления, позвонила Даниной матери, что они пообщались, что его мама сказала, что у них нормальный сын, порядочный ( это было верно в части меня касающейся), но его мама дала моей маме уверения, что с ним поговорит и что «наш сын ничего лишнего себе не позволит, ну ведь вы же понимаете, что мы почти породнились, но тут их досадная ссора, а девочку он просто не хочет обижать.
В холодильнике был купленный вчера квас в эмалированном бидоне и несколько отварных картофелин, я отварила яйца, сделала себе тарелку окрошки со сладко-солёным вкусом и читала «Мастер и маргарита»
В дверь позвонили, эта была соседка тётя Роза из обитой синим дермантином, подъездной на первом этаже, если выходить из нашего коридора, то она окажется справа, сказала, что позвонила моя мама и спросила передать мне , что мне не надо ехать к ней на работу.
Вечером за столом собрались все, папа, мама и сестра из детского садика.
Ужин в большой комнате –обязательный вечерний ритуал, про Даню не было сказано ни слова.
Я спросила, могу ли я взять ключи от старого дома, потому, что хочу там порисовать, мне сказали, что безусловно могу и что в другом городе они меня контролировать всё равно не смогут.
Я посмотрела с сестрой вечернюю сказку и легла пытаться уснуть, потому, что свет мешает сестре и у неё режим, а в другой комнате папа и мама.
До моего отъезда оставалось семнадцать дней.
Я засыпала на своей деревянной, типовой, вполне приличной деревянной кровати с полированной коричневой спинкой, в комнате с расписанным сестрой блюдом на стене, блюдом под Гжель с озером, домиком у пруда и лодками у причала, в комнате с вьетнамской соломкой на светло синей двери, в комнате со светло-сиреневыми обоями, в то время как в другом конце города было сказано : «Мама, мне Мелкая очень нравится, но, папамоно, не трону её до совершеннолетия и свадьбы. И ещё тёлка у меня есть, только с вами не знакомлю потому, что женится на ней не собираюсь. А вот на мелкой женюсь, но когда время придёт. Мама, я отца её знаю, мать её знаю, сестру старшую, (ой мама лучше бы мне её не знать, тоже знаю!) . Пока она не закончит своё училище, пока восемнадцать не станет, клянусь, пальцем не коснусь».
И сказал ему отец его: «Верю, тебе сынок. Видать в прадеда ты пошёл, в Ефрема. О его порядочности весь колонтай знал, ему любую сумму на слово в долг давали люди, какую могли, если надо. Знали его. Ты машину на завтра хотел? Возьми, конечно, поеду завтра с друзьями пивка выпью, а то вечно за рулём да за рулём…»
В конце той самой июльской субботы до моего отъезда мне оставалось двадцать дней.
Я немного офигела, когда увидела Струилов силуэт в солнечном из за хорошей погоды подъезде, все были дома и папа,(меня это почти насторожило), сказал : «Заходи, чего стоишь.»
Даня сказал, что в воскресенье он собирается отметить поступление в университет, что берёт на себя ответственность, что пить не даст, разве что глоток шампанского, что доставит до подъезда, да что вы, какой мотоцикл, на такси конечно же. Да нет, тёть Лара, не поздно.
Пойду я или нет, у меня не спросили. Я понимала, что надо идти, потому, что они с Галей поссорились из за того, что он считал, что ей по протоколу надо идти на какое-то мероприятие, где будут все друзья с девушками, а она не хочет.
Кроме того в музыкальном театре, который на площади Марии концерт «Савояров» и он взял мне билет.
После «Савояров» такси с трудом, но поймали.
Засыпала и в ушах «Кто-то тихо -тихо плачет, за стеною тихо плачет, и желает мне удачи кто-то».
Мне больше всего понравилась песня со словами : «Будь моей дорогой, тихой и забытой, той что вывести может из лесной глуши».
Мне снится лесная глушь, папоротники как первобытном лесу, мы с папой собираем грибы и входим на поляну, поляна с ярко жёлтыми цветами, а впереди город.
Мы едем в трамвае, я вижу трамвай сверху, но ощущаю, что внутри, трамвай врезается в стог сена и я вижу сверху, что трамвай похож на человека в сенном парике, смотрит на город удивлёнными глазками фар, а я всё ещё внутри, трамвай проезжает мимо прудов заросших ряской, прудов с водорослями, лягушками, змеями, змеи прыгают в воду и плывут как лохнесские чудища, но я таращусь в ветровое стекло трамвая, впереди переливается огромная янтарная лужа и пахнет подсолнечным маслом.
В луже плавает человек в пиджаке, он нарисован проволочной линией, трамвай переезжает его, а я говорю «папа не дрейфь, он нарисованный», а Струил такой говорит, что слово не литературное, а я отвечаю, не литературное, но пусть не дрейфит, человек нарисованный».
Трамвай врезается в лужу, как струилов «Москвич» прошлой осенью, когда ехали с концерта ансамбля «Флуераш» где были цимбалы, обожаю цимбалы и клавесин.
С ветрового стекла трамвая под «дзинь-дзинь» осыпается солома, капли масла и капли алого, но я не боюсь, нарисованному литератору не больно, просто комсомолка разлила, поэтому такой цвет…
Просыпаюсь от летнего ливня среди ночи, и гром, но маленькая сестра спит, ей хоть бы что.
Июль 1982 год. Воскресенье. До моего отъезда шестнадцать дней.
Это не хорошо, когда двухкомнатная квартира так перенаселена. У меня есть модная черная сумка с ремнём через плечо, со многочисленными отсеками и застёжками молниями- Даня отдал. Я просто сказала, какая у него сумка прикольная, а когда ехать домой собиралась, он опустошил её от предметов в ней находившихся и повесил мне на плечо. Это было на зимних каникулах, достаточно давно, сумка казалась мне слишком мальчуковой и я её не таскала.
Я отпросилась у мамы ещё вчера. Не хотела их будить, идти через проходную комнату, где мама спит с папой на диван-кровати.
Сестра младшая проснулась, я сказала, что еду н Чернышевского, взяла сумку, в которой были три рубля, набор косметики старшей сестры и книжка автобусных талонов.
В автобусе цвета охры с коричневым пробила компостером дырки в талоне, автобус полупустой –воскресенье и этот один из первых.
Погода была такая, про какую сообщают по радио : «Переменная облачность временами возможны осадки. Ветер слабый до умеренного.»
На мне зелёные брюки, застиранная синяя куртка с большим, представл


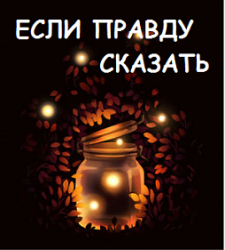

Комментарии (1)
последняя строка интригует